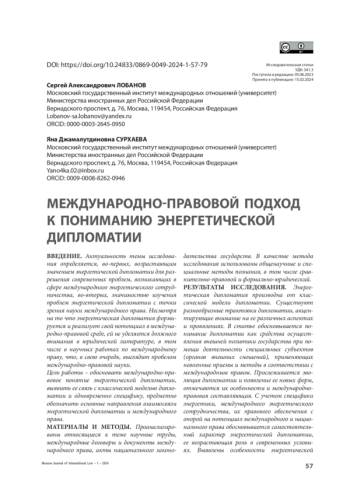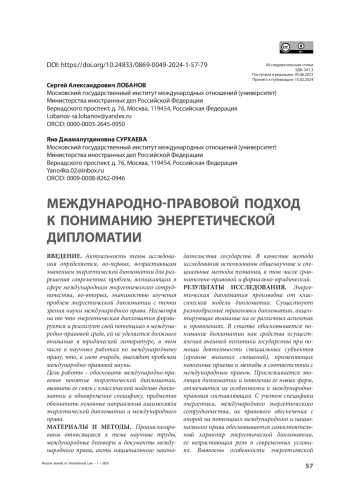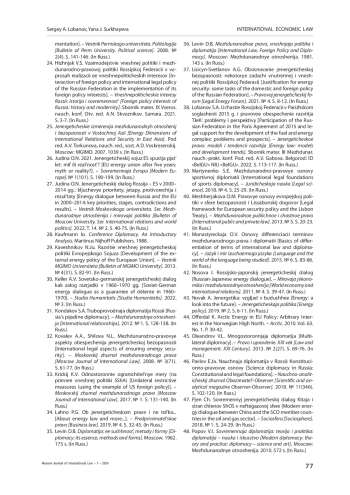ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования определяется, во-первых, возрастающим значением энергетической дипломатии для разрешения современных проблем, возникающих в сфере международного энергетического сотрудничества, во-вторых, значимостью изучения проблем энергетической дипломатии с точки зрения науки международного права. Несмотря на то что энергетическая дипломатия формируется и реализует свой потенциал в международно-правовой среде, ей не уделяется должного внимания в юридической литературе, в том числе в научных работах по международному праву, что, в свою очередь, выглядит пробелом международно-правовой науки. Цель работы – обосновать международно-правовое понятие энергетической дипломатии, выявить ее связь с классической моделью дипломатии и одновременно специфику, предметно обозначить основные направления взаимосвязи энергетической дипломатии и международного права.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Проанализированы относящиеся к теме научные труды, международные договоры и документы международного права, акты национального законодательства государств. В качестве метода исследования использованы общенаучные и специальные методы познания, в том числе сравнительно-правовой и формально-юридический.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Энергетическая дипломатия производна от классической модели дипломатии. Существуют разнообразные трактовки дипломатии, акцентирующие внимание на ее различных аспектах и проявлениях. В статье обосновывается понимание дипломатии как средства осуществления внешней политики государства при помощи деятельности специальных субъектов (органов внешних сношений), применяющих невоенные приемы и методы в соответствии с международным правом. Прослеживается эволюция дипломатии и появление ее новых форм, отмечаются их особенности и международно-правовая составляющая. С учетом специфики энергетики, международного энергетического сотрудничества, их правового обеспечения с опорой на потенциал международного и национального права обосновывается самостоятельный характер энергетической дипломатии, ее возрастающая роль в современных условиях. Выявлены особенности энергетической дипломатии и предложено ее понятие, учитывающее международно-правовую составляющую. В современных условиях не сложились полноценные нормативно-правовые и институционально-правовые основы внешней энергетической политики и энергетической дипломатии Европейского союза (далее – ЕС). Отмечено, что легитимность применяемых в энергетической дипломатии рядом государств односторонних ограничительных мер небесспорна с точки зрения международного права. Предметно обозначены основные направления взаимосвязи энергетической дипломатии и международного права, выделены варианты легитимации национальных интересов государств в энергетической сфере с опорой на потенциал международного права.
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Основные выводы проведенного исследования состоят в следующем. Во-первых, энергетическая дипломатия выступает новым функциональным направлением дипломатической деятельности. Она имеет единую сущность с классической дипломатией (служить средством осуществления внешней политики в соответствии с международным правом) и одновременно характеризуется рядом производных от энергетического сектора и энергетического права особенностей (специальная направленность на реализацию целей и задач внешней энергетической политики государства, участие в ней энергетических ведомств и подключение энергетических компаний, применяемые методы). Во-вторых, энергетическая дипломатия и международное право в процессе своего развития и функционирования взаимосвязаны и оказывают взаимообратное влияние друг на друга. Международное право определяет правовые рамки и формы реализации энергетической дипломатии (как и в целом дипломатической деятельности), а также играет определяющую роль в легитимации национальных интересов государств в сфере внешней энергетической политики, осуществляемой посредством энергетической дипломатии. В свою очередь, энергетическая дипломатия с опорой на потенциал международного права содействует обеспечению энергетической безопасности (национальной и международной) и тем самым – поддержанию международного энергетического правопорядка. В целом, энергетическая дипломатия оказывает влияние на процесс создания и действия норм международного права и вносит вклад в развитие международного права.
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 10.24833/0869-0049-2024-1-57-79
Нужно пояснить, что перечисленные новые формы дипломатии, строго говоря, не являются дипломатией в ее классическом понимании, не содержат всех признаков последней (в частности, имеется в виду присущий классической дипломатии официальный характер, проявляющий себя среди прочего в официально закрепленном круге полномочных на ее осуществление субъектов, представляющих соответствующее государство). Как обоснованно отмечают исследователи, в литературе и официальных документах отсутствует единый понятийно-терминологический аппарат, применимый к трактовке указанных форм, а также и к их соотношению друг с другом [Шамугия 2017:136-142], что, по всей видимости, препятствует системной выработке мер по их реализации, снижает их эффективность.
Список литературы
1. Ануфриева Л.П. 2021. Принципы в современном международном праве (некоторые вопросы понятия, природы, генезиса, сущности и содержания). - Московский журнал международного права. № 1. С. 6-27.
2. Ахмед М.А.Х. 2018. Энергетический диалог Российской Федерации и Королевства Саудовская Аравия. - Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Междунар. отношения. Т. 18. № 2. С. 342-355.
3. Ашавский Б.М. 2018. Взаимодействие внешней политики, дипломатии и международного права. - Социальная справедливость и гуманизм в современном государстве и праве. Матер. междунар. науч.-практич. конф. Отв. ред. Т.А. Сошникова, Е.Е. Пирогова. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета. С. 77-84.
4. Бекяшев К.А., Бекяшев Д.К. 2018. Новый международно-правовой режим Каспийского моря. - Труды ВНИРО. Т. 174. С. 129-142.
5. Блищенко И.П. 1990. Дипломатическое право. 2-е изд., испр. и доп. М. 284 с.
6. Богоненко В.А. 2017. Правовая сущность и признаки международно-правовых отношений в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов. - Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D. Экономические и юридические науки. № 14. С. 127-132.
7. Боровский Ю.В. 2018. Проблема энергетической безопасности в отношениях России и международного сообщества: сотрудничество и соперничество: монография. М.: МГИМО-Университет. 439 с.
8. Варлен М.В. 2019. О возрастающей роли парламентской дипломатии в многополярном мире. - Lex russica. № 7. С. 54-65.
9. Вылегжанин А.Н., Дудыкина И.П. 2016. Понятие «международно-правовая политика государства». - Московский журнал международного права. № 4. С. 21-37.
10. Вылегжанин А.Н., Салыгин В.И., Крымская К.В. 2020. Трансграничное недропользование: международно-правовые механизмы неконфликтной политики государств. - Международные процессы. Т. 18. № 3(62). С. 23-41.
11. Ганиевой Ш.Н. 2020. Понятие и сущность дипломатии в современных условиях. - Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. № 2. С. 209-214.
12. Ганюшкин Б.В. 1972. Дипломатическое право международных организаций. Правовое положение представительств государств при международных организациях, в их органах и на международных конференциях. М. 191 с.
13. Гликман О.В. 2020. Международное энергетическое право в системе международного права. - Международный правовой курьер. № 1-2. С. 72-77.
14. Гудков И.В. 2014. Энергетический диалог России и ЕС: актуальные политико-правовые проблемы. - Вся Европа.ru. № 7(89). С. 28.
15. Гудков И.В. 2016. Компетенция Европейского союза по регулированию отношений в энергетической сфере. - Международное экономическое право. № 1. С. 10-17.
16. Гуласарян А.С. 2015. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ): международно-правовые аспекты деятельности. - Правовой энергетический форум. № 4. С. 34-40.
17. Гумарова И.С. 2008. Энергетическая дипломатия: методы, средства, формы и механизмы реализации. - Вестник Пермского университета. Политология. № 2(4). С. 141-146.
18. Дегтерев Д.А. 2010. Экономическая дипломатия: экономика, политика, право. М.: Навона. 174 с.
19. Дипломатия ресурсов: Сырьевые ресурсы и система международных отношений двадцатого века. 2008. Пер. с ит. Отв. ред. А.В. Торкунов. Науч. ред. русского издания М.М. Наринский. М.: Навона. 445 с.
20. Ефимцева Т.В. 2019. Некоторые аспекты правового определения понятия «топливно-энергетический комплекс» по законодательству Российской Федерации. - Право и государство: теория и практика. № 7(175). С. 82-84.
21. Жизнин Т.З., Трусова А.А. 2019. Энергетическая дипломатия в современном мире: меньше экономики, больше геополитики. - Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. Т. 19. № 3. С. 472-479.
22. Жукова И.С. 2010. Энергетическая дипломатия и геополитика как составной элемент международного энергетического права. - Вестник Оренбургского государственного университета. № 3(109). С. 51-54.
23. Зонова Т. В. 2014. Дипломатия: Модели, формы, методы. М.: Аспект Пресс. 346 с.
24. Кавешников Н.Ю. 2013. Развитие внешней энергетической политики Европейского Союза. - Вестник МГИМО Университета. № 4(31). С. 82-91.
25. Келлер А.В. 2022. Советско-германский энергетический диалог как залог разрядки в 1960-1970 гг. - Studia Humanitatis. № 3.
26. Ковалев А.А., Шилова Н.Л. 2008. Международно-правовые аспекты обеспечения энергетической безопасности. - Московский журнал международного права. № 3(71). С. 61-77.
27. Кондаков С.А. 2012. Трубопроводная дипломатия России. - Международные отношения. № 1. С. 128-138.
28. Крицкий К.В. 2017. Односторонние ограничительные меры (на примере внешней политики США). - Московский журнал международного права. № 1. С. 131-140.
29. Лахно П.Г. 2019. Об энергетическом праве и не только... - Предпринимательское право. № 4. С. 32-45.
30. Левин Д.Б. 1962. Дипломатия: ее сущность, методы и формы. М. 175 с.
31. Левин Д.Б. 1981. Международное право, внешняя политика и дипломатия. М.: Международные отношения. 143 с.
32. Лисицын-Светланов А.Г. 2021. Обоснование энергетической безопасности: некоторые задачи внутренней и внешней политики Российской Федерации. - Правовой энергетический форум. № 4. С. 8-12.
33. Лобанов С.А. 2022. Участие Российской Федерации в Парижском соглашении 2015 г. и правовое обеспечение развития ТЭК: проблемы и перспективы. - Энергетическое право: модели и тенденции развития. Сборник матер. III Междунар. науч.-практ. конф. Под. ред. А.В. Габова. Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ». С. 113-117.
34. Мартыненко С.Е. 2018. Международно-правовые основы спортивной дипломатии. - Юридическая наука. № 4. С. 25-29.
35. Мещерякова О.М. 2013. Правовые основы европейской политики в сфере безопасности и Лиссабонский договор. - Международное публичное и частное право. № 5. С. 20-23.
36. Монастырецкая О.В. 2015. Основы дифференциации терминов международного права и дипломатии. - Язык и мир изучаемого языка. № 6. С. 83-86.
37. Новак А. 2019. Энергетика: взгляд в будущее. - Энергетическая политика. № 2. С. 6-11.
38. Носова И. 2011. Российско-японский энергетический диалог. - Мировая экономика и международные отношения. № 4. С. 39-47.
39. Олеандров В.Л. 2013. Многосторонняя дипломатия. - Право и управление. XXI век. № 2(27). С. 69-76.
40. Павлов Е.Я. 2018. Научная дипломатия в России: Конституционно-правовые основы. - Научно-аналитический журнал Обозреватель-Observer. № 11(346). С. 102-120.
41. Попов В.И. 2010. Современная дипломатия: теория и практика: дипломатия - наука и искусство. М.: Международные отношения. 572 с.
42. Правовой режим минеральных ресурсов. Словарь. 2002. Под ред. А.А. Арбатова, В.Ж. Аренса, А.Н. Вылегжанина, Л.А. Тропко. М.: ООО «Геоинформцентр». 284 с.
43. Пэн Ч. 2018. Современный энергетический диалог Китая и стран членов ШОС в нефтегазовой сфере. - Социосфера. № 1. С. 24-29.
44. Романова В.В. 2015. Правовые основы развития международного энергетического правопорядка. - Международное публичное и частное право. № 3. С. 9-12.
45. Романова В.В. 2016. Внешнеэкономические сделки в газовой отрасли: особенности правового регулирования. - Международное публичное и частное право. № 3. С. 12-16.
46. Салиева Р.З. 2015. Особенности экономической (хозяйственной) деятельности в энергетическом секторе экономики. - Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. № 6. С. 1117-1121.
47. Селиверстов С.С. 2008. К вопросу о понятии энергетического права. - Энергетическое право. № 1. С. 52-58.
48. Сорокина Ю.В. 2003. Дипломатия как средство реализации внешней политики. - Международно-правовые чтения. Вып. 2 Отв. ред. П.Н. Бирюков. Воронеж: Воронежский государственный университет. С. 13-18.
49. Сурма И.В. 2020. Цифровая дипломатия: монография. М. 123 с.
50. Танака Н. 2008. Усиление зависимости и глобальной энергетической безопасности и важность энергетического диалога между МЭА и Россией. - Энергетическая политика. № 6. С. 9-13.
51. Тункин Г.И. 1970. Теория международного права. М.: Международные отношения. 511 с.
52. Уртаева Э.Б. 2011. Понятие энергетической дипломатии и интересы России. - Политика и общество. № 4(76). С. 4-11.
53. Фодченко И.П. 2018. Механизмы разрешения споров в российско-норвежской модели юнитизации трансграничных месторождений углеводородов в Баренцевом море и Арктике. - Предпринимательское право. № 4. С. 63-69.
54. Хижняк В.С. 2021. Взаимодействие внешней политики и международно-правовой политики Российской Федерации в вопросах реализации ее внешнеполитических интересов. - Внешнеполитические интересы России: история и современность. Сборник матер. IX Всерос. науч. конф. Отв. ред. А.Н. Сквозников. Самара. С. 3-7.
55. Шамугия И.Ш. 2017. Понятие «публичная дипломатия» в теории международных отношений. - Актуальные проблемы современных международных отношений. № 10. С. 136-142.
56. Шевченко Л.И. 2021. Понятие и правовое обеспечение энергетической безопасности как основы энергетического правопорядка. - Правовой энергетический форум. № 1. С. 26-31.
57. Шумилов В.М. 2000. Категория «Государственный интерес» в политике и праве (системно-теоретические и международно-правовые аспекты). - Право и политика. № 3. С. 4-17.
58. Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии. 2007. Под ред. А.В. Торкунова. Науч. ред., сост. А.Д. Воскресенский. М.: МГИМО. 1039 с.
59. Юдина О.Н. 2021. Энергетический союз ЕС спустя пять лет: миф или реальность? - Современная Европа. № 1(101). С. 190-199.
60. Юдина О.Н. 2022. Энергетический диалог Россия - ЕС в 2000-2014 гг.: ключевые приоритеты, этапы, противоречия и результаты. - Вестник Московского университета. Сер. Международные отношения и мировая политика. Т. 14. № 2. С. 40-75.
61. Bankes N. 2016. The Regime for Transboundary Hydrocarbon Deposits in the Maritime Delimitation Treaties and Other Related Agreements of Arctic Coastal States. - Ocean Development & International Law. Vol. 47. Issue 2. P. 141-164.
62. Berkman P.A., Kullerud I., Pope A., Vylegzhanin A.N., Young O.R. 2017. The Arctic Science Agreement Propels Propels Science Diplomacy. - Science. Vol. 358. Issue 6363. P. 596-598.
63. Bradbrook A. 1996. Energy Law as an Academic Discipline. - Journal of Energy & Natural Resources Law. Vol. 14. P. 193-217.
64. Crawford J. 2019. Brownlie’s Principles of Public International Law. 9th ed. Oxford: Oxford University Press. 872 p.
65. Goldthau A., Witte J.M. 2010. Global energy governance: the new rules of the game. - The Brookings Institution. 372 р.
66. Kaufmann Io. 1988. Conference Diplomacy. An Introductory Analysis. Martinus Nijhoff Publishers.
67. Offerdal K. 2010. Arctic Energy in EU Policy: Arbitrary Interest in the Norwegian High North. - Arctic. Vol. 63. No. 1. P. 30-42.
68. Proedrou F. 2018. Revisiting pipeline politics and diplomacy: from energy security to domestic politics explanations. - Problems of Post-Communism. T. 65. N 6. Р. 409-419.
69. Smith M., Keukeleire S., Vanhoonacker S. 2015. The Diplomatic System of the European Union: Evolution, Change and Challenges. London: Routledge. 18 р.
70. Uludag M., Karagul S. 2013. Turkey’s role in energy diplomacy from competition to cooperation: theoretical and factual projections. - International journal of energy economics and policy. Vol. 3. P. 102-114.
Выпуск
Другие статьи выпуска
ВВЕДЕНИЕ. В статье представлен комплексный анализ нормативно-правовой базы, регулирующей область информационных технологий (далее – ИТ) в России и Швеции, проведена сравнительная оценка ключевых правовых инструментов, концепций и подходов к регулированию, включая ответственность за киберпреступления, процедуры лицензирования, практику стандартизации и безопасность критической информационной инфраструктуры. Кроме того, в статье рассматриваются роли и функции основных регулирующих органов в обеих странах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Статья подготовлена на основе соответствующих правовых актов России и Швеции. Несмотря на наличие отдельных законов, полностью посвященных ИТ, некоторые положения можно найти в других видах правовых документов (например, в уголовных кодексах или постановлениях правительства). С помощью сравнительного подхода в исследовании очерчиваются рамки и полномочия государственных институтов, осуществляющих регулирование в сфере ИТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. И в России, и в Швеции наблюдается сходство в определении основных понятий, таких как критическая инфраструктура, что отражает общую проблематику, связанную, например, с вопросами безопасности. Основные законы в области ИТ содержат спектр ключевых терминов, включая, но не ограничиваясь, информационно-коммуникационной сетью / электронной сетью коммуникаций, оператором информационной системы, а также защитой информации / безопасностью сети и информационной системы. Хотя список ключевых определений может показаться довольно сходным, шведское законодательство, как правило, предлагает более широкие определения с целью охвата более общих областей в рамках ИТ, в то время как российские законодатели фокусируются на применении более конкретных терминов. Однако если в Швеции законодательство тесно связано с нормативной базой Европейского союза (далее – ЕС), то в России применяется более широкий подход, учитывающий новые технологические вызовы, такие как искусственный интеллект. В заключение следует отметить, что для эффективного регулирования ИТ необходимо найти баланс между согласованностью на международном уровне и возможностью адаптации на национальном, что позволит обеспечить высокий уровень кибербезопасности, стимулировать инновации и сохранить гибкость регулирования в динамичной цифровой среде.
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Швеция делает ставку на внедрение нормативных актов ЕС, что имеет свои преимущества, такие как гармонизация, внедрение признанной на международном уровне практики, облегчение доступа на рынок и т. д. Однако такой подход может ограничить возможности страны по удовлетворению своих специфических потребностей и повлечь за собой дополнительное бремя, связанное с соблюдением директив ЕС. Более того, изменения в нормативных актах ЕС могут привести к необходимости обновления внутреннего законодательства, что потенциально может вызвать возникновение законодательных пробелов или коллизий, особенно в такой сфере, как ИТ. Сегодня, когда на повестке стоят искусственный интеллект и его риски, невозможно оставаться в стороне и ждать, пока международное сообщество договорится о применимом регулировании.
ВВЕДЕНИЕ. В статье рассматривается становление правового института институционального арбитража в Испании. Дан краткий обзор постепенных изменений в подходе испанского законодателя к указанному институту от полного запрета к полноправному включению его в правовое пространство. Исследованы законодательное регулирование образования и правового статуса постоянно действующих арбитражных учреждений (далее – ПДАУ), правовая природа их полномочий, обязанностей и ответственности. Дан общий обзор текущей ситуации, связанной с их деятельностью. Показано их значение в формировании современной системы третейского разбирательства Испании.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом послужили труды испанских и латиноамериканских исследователей в области третейского разбирательства и международного коммерческого арбитража, а также действующее арбитражное законодательство Испании, включая ряд актов органов судебной власти, имеющих ключевое значение. Методологическую основу исследования составили общенаучные и частнонаучные методы познания (диалектический метод, методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, сравнительно-правовой и историко-правовой методы). РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ходе проведенного исследования автор раскрывает наличие в Испании трех факторов, препятствующих полноценному развитию институционального арбитража. Это, прежде всего, слабые традиции применения третейского способа разрешения споров как такового. Иначе говоря, речь идет о способе, все еще неизвестном большинству населения, за исключением узкой группы профессионалов. Отсюда общее недоверие и скептицизм, основанные на привычной уверенности участников торгового оборота в том, что государственное судопроизводство предоставляет больше гарантий защиты их прав. Соответственно, такие общепризнанные в развитых арбитражных правопорядках преимущества, как конфиденциальность разбирательства и отсутствие процедуры обжалования арбитражного решения по существу, воспринимаются, наоборот, как негативные факторы. Затем, это весьма укорененный как среди делового сообщества, так и среди адвокатов Испании взгляд, что назначаемый стороной арбитр является ее «адвокатом», призванным представлять ее интересы перед председательствующим арбитром, что само собой вызывает недоверие к независимости и беспристрастности ПДАУ и арбитров. К сожалению, указанные факторы обусловливают крайне незначительное число арбитражных разбирательств в стране, что порождает третий фактор: недостаточно высокий профессиональный уровень сотрудников ПДАУ и арбитров из-за недостатка опыта. Автор показывает ведущую роль наиболее авторитетных ПДАУ в процессе преодоления указанных проблем.
ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. Дан краткий обзор постепенных изменений в подходе испанского законодателя к указанному институту от запрета к полноправному включению его в правовое пространство. Исследованы законодательное регулирование образования и правового статуса ПДАУ, правовая природа их полномочий, обязанностей и ответственности. Дан общий обзор текущей ситуации, связанной с их деятельностью. Показано их значение в формировании современной системы третейского разбирательства Испании. По итогам исследования автор обращает внимание на то, что несмотря на имеющий место прогресс в совершенствовании правового регулирования третейского разбирательства вообще и института институционального арбитража в частности, Испании предстоит еще долгий путь, чтобы создать полноценную и эффективную систему третейского разбирательства и тем самым стать в том числе привлекательной юрисдикцией для разбирательств в рамках международного коммерческого арбитража.
ВЕДЕНИЕ. В статье рассматриваются подходы, выработанные судами Азиатско-Тихоокеанского региона (на примере Сингапура, Гонконга и Малайзии) по вопросам соотношения свободы усмотрения арбитров при рассмотрении споров и соблюдения принципа естественной справедливости. Цель исследования – анализ подходов национальных судов к толкованию принципа естественной справедливости в контексте реализации арбитражем своих дискреционных полномочий (усмотрения) при решении переданных им споров. Риск необеспечения арбитрами баланса свободы усмотрения и естественной справедливости состоит в возможности отмены арбитражного решения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В качестве материалов для исследования были использованы национальное законодательство стран Азиатско-Тихоокеанского региона, практика арбитражных институтов и судебных органов, а также существующие позиции исследователей института естественной справедливости в арбитраже и практикующих в сфере международного коммерческого арбитража специалистов. Методологическая основа исследования включает общенаучные (анализ) и специальные юридические (сравнительно-правовой) методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Международный коммерческий арбитраж широко рассматривается как альтернативный судебным разбирательствам в национальных судах механизм разрешения споров. При этом национальные суды часто участвуют в рассмотрении арбитражных решений в контексте их отмены в целях обеспечения соответствия арбитражной процедуры фундаментальным принципам естественной справедливости. Понимание принципа естественной справедливости не одинаково во всех юрисдикциях и зависит от места проведения арбитража, а также от того, какие правила согласованы сторонами для регулирования разбирательства. Арбитражное усмотрение важно для заполнения пробелов, оставленных правилами и руководящими принципами, сформулированными различными арбитражными институтами и практикой.
ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. В рамках исследования рассмотрены подходы национальных судов Сингапура, Гонконга и Малайзии к обеспечению баланса между усмотрением в арбитраже и соблюдением принципа естественной справедливости. На основании проанализированной практики предложены способы минимизации риска отмены арбитражного решения в связи с нарушением естественной справедливости, а именно необходимость установленного процедурного протокола, который обеспечивал бы определенность и устранял проблемы, возникающие в связи с применением арбитражем усмотрения, а также предварительное подробное ознакомление сторон с применяемыми арбитражными институтами процедурами.
ВВЕДЕНИЕ. В статье представлен исторический обзор многолетнего процесса становления механизмов судебной защиты патентных прав, представляемых европейским патентом, который начался еще в 1950-х гг. и завершился началом деятельности Единого патентного суда в 2023 г. Показано, что создание подобных механизмов в пределах Евразийской патентной организации и Евразийского экономического союза может потребовать иных подходов из-за возможной централизации системы правовой охраны объектов промышленной собственности в рамках Евразийской патентной организации.
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ. В качестве исследовательских материалов для данной статьи были взяты научные труды зарубежных и российских ученых и должностных лиц Европейского патентного ведомства и Евразийского патентного ведомства, правовые акты международного и регионального уровней и их проекты. Методологическую основу данного исследования составили общенаучные и специальные методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В статье предлагается периодизация возникновения и становления механизмов разрешения споров по европейским патентам, раскрываются причины и предпосылки создания единой патентной судебной системы в Европе и намечаются направления дальнейших исследований в части изучения перспектив создания аналогичных механизмов в Евразийском регионе. Некоторые выводы, сделанные в настоящей статье, могут способствовать увеличению числа таких исследований.
ОБСУЖДЕНИЯ И ВЫВОДЫ. Европейский союз накопил существенный опыт в процессе создания механизмов разрешения споров по европейским патентам. Уникальность Единого патентного суда представляет особый интерес, когда речь идет об изучении перспектив создания судебных или квазисудебных механизмов разрешения патентных споров в рамках Евразийской патентной конвенции. Однако тенденции развития Евразийской патентной организации и возможная централизация региональной системы охраны объектов промышленной собственности может означать, что евразийский аналог Единого патентного суда может получить иную институциональную форму.
ВВЕДЕНИЕ. В современном международном и внутригосударственном морском праве все более ощутимой становится региональная фрагментация правового регулирования, что, в свою очередь, объективирует и актуализирует формирование комплексных массивов юридических норм, объединенных согласованностью политико-правовых позиций договаривающихся государств, имеющих национальные интересы в соответствующей акватории, прежде всего, прибрежных государств, распространяющих свой государственный суверенитет на определенные участки морских пространств. В этом контексте регион Большого Средиземноморья следует рассматривать как один из важнейших в мировом торговом мореплавании и военно-морском обеспечении международного мира и безопасности. Данный бассейн с точки зрения логистики оптимальным образом связывает Атлантический и Индийский океаны, что требует формирования надлежащей научно-методологической основы для полноценной реализации основополагающего принципа международного сотрудничества в морской политике государств региона и последующего нормативного правового регулирования соответствующих общественных отношений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для обоснования целесообразности выделения Большого Средиземноморья в качестве самостоятельного объекта правового регулирования были рассмотрены общие и специальные международно-правовые договоры, внутреннее законодательство средиземноморских государств, а также документы политико-правового характера, свидетельствующие о наличии определенных споров и ситуаций вокруг некоторых зон средиземноморской акватории, прежде всего, в районе Восточного Средиземноморья. Для получения достоверных и обоснованных результатов исследования применялись методы научного познания: формально-юридический, логический, историко-правовой, метод системно-структурного анализа. Так, формально-юридический метод позволил прояснить содержание и смысл международно-правовых договоров, заключенных в разное время и направленных на урегулирование общественных отношений в морской сфере. Логический метод дал возможность обосновать необходимость всестороннего международного сотрудничества прибрежных государств Большого Средиземноморья. При помощи историко-правового метода был сделан обзор мировой, советской и российской практики применения норм внутреннего и международного права по проблемам, связанным с обеспечением международного правопорядка в регионе Большого Средиземноморья. Логический метод позволил выстроить необходимые связи и закономерности развития международно-правового регулирования в регионе Большого Средиземноморья в общем контексте происходящих универсальных и региональных политико-правовых процессов и трансформаций. При помощи метода системно-структурного анализа удалось отобразить целостную картину правотворчества и правоприменения средиземноморских государств, направленных на формирование унифицированных принципов и норм осуществления суверенных прав прибрежных государств.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Международно-правовое регулирование отношений в регионе Большого Средиземноморья имеет значительную специфику, требующую дальнейшего развития международного сотрудничества и отображения консенсуальных положений в разрабатываемых многосторонних договорах.
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Настоящая работа посвящена исследованию основных тенденций развития региона Большого Средиземноморья в части формулирования ключевых международно-правовых ориентиров и правил поведения входящих в него государств. В качестве объекта исследования взяты правоотношения, осуществляемые в морских пространствах Большого Средиземноморья как одного из ключевых регионов, одновременно со своей экономической и политической значимостью являющегося неотъемлемой зоной реализации национальных интересов Российской Федерации, распространяющихся на весь Мировой океан.
ВВЕДЕНИЕ. В статье представлен анализ современного международно-правового подхода к односторонним санкциям. Сделан вклад в развивающуюся дискуссию о квалификации односторонних санкций в соответствии с международным правом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Настоящее исследование опирается на работы как российских, так и зарубежных специалистов в области международного экономического права, а также на анализ документов и материалов международных организаций (Организации Объединенных Наций (далее – ООН), Всемирной торговой организации (далее – ВТО) и др.) с целью оценки соответствия односторонних санкций нормам международного права. В представленном исследовании использовались общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция и дедукция), специально-юридические методы (формально-юридический, технико-юридический, метод юридической аналогии) и сравнительно-правовой метод.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Представленный анализ показал, что широко используемый термин «односторонние санкции» приводит к злоупотреблению и неправомерному использованию такого международно-правового понятия, как «санкции». Анализ совместимости односторонних санкций с другими видами мер принуждения, такими как контрмеры, санкции Совета Безопасности ООН, реторсии и репрессалии, выявил, что односторонние санкции не подпадают под определение данных мер. Кроме того, односторонние санкции не должны оправдываться исключениями по соображениям безопасности, действующим в рамках ВТО. Использование экстерриториальных односторонних санкций противоречит одному из основополагающих принципов международного права – принципу невмешательства во внутренние дела. Существующие механизмы блокирования односторонних санкций недостаточно эффективны, чтобы компенсировать негативный эффект от односторонних санкций.
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ. Авторы пришли к выводу, что односторонние санкции в большинстве случаев не удовлетворяют совокупным критериям легитимной контрмеры. Односторонние санкции не эквивалентны санкциям Совета Безопасности ООН, так как в процессе принятия решений отсутствует система «сдержек и противовесов» в виде определения степени угрозы миру и безопасности и учета гуманитарных исключений. Несмотря на то, что между односторонними санкциями и реторсиями или репрессалиями есть определенная взаимосвязь, реторсии и репрессалии должны соответствовать критериям законности и пропорциональности, в то время как односторонние санкции вводятся по усмотрению государства без каких-либо критериев. Кроме того, авторы утверждают, что во избежание злоупотреблений при использовании исключений по соображениям безопасности, действующим в рамках ВТО, третейские группы должны опираться на сбалансированный подход, использованный в деле Россия – Транзит. Этот подход показывает, что контекст исключений по соображениям безопасности следует понимать как охватывающий только военные и тесно связанные с ними вопросы и не распространять его на политические, экономические, культурные или любые другие интересы и отношения. Существующие блокирующие механизмы односторонних санкций требуют отдельной квалификации в рамках международного права, включая совместимость с легитимными контрмерами.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- МГИМО
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.
- Юр. адрес
- 119454, Москва, проспект Вернадского, 76.
- ФИО
- Торкунов Анатолий Васильевич (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- portal@inno.mgimo.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 2294049
- Сайт
- https://mgimo.ru/