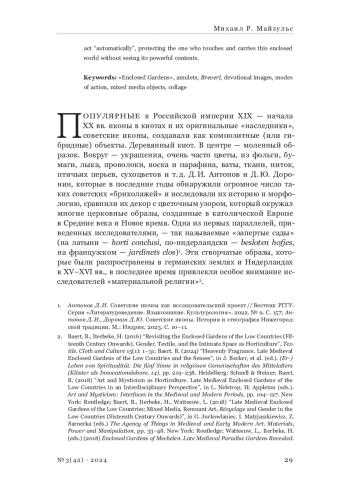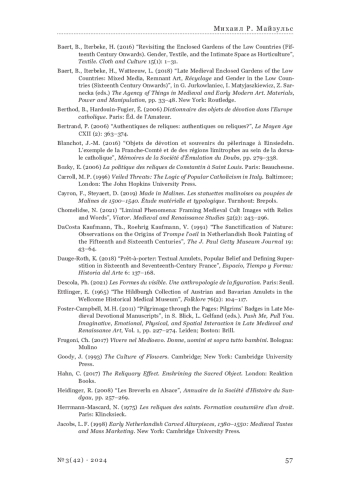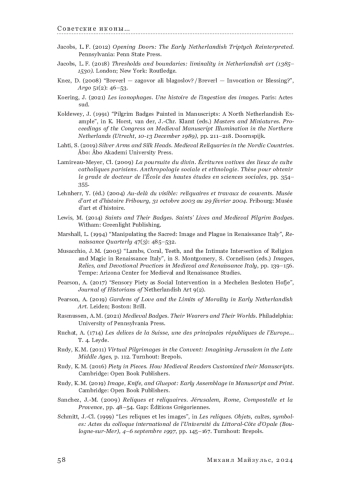Статья посвящена позднесредневековым «запертым садам» и композитным амулетам, известным как Breverl, которые получили распространение уже в Новое время. Формы, размеры и функции этих религиозных образов‑объектов были различны. Однако их объединяет то, что и те, и другие создавали как своего рода коллажи — из элементов разного происхождения и назначения. Большинство из них исходно не предназначалось ни для этих складней, ни для амулетов и было в них использовано повторно. В центре «Садов» устанавливали небольшие фигуры святых, а вокруг обустраивали плотно заполненный мир из искусно сделанных цветов, фрагментов мощей, изображений, вырезанных из рукописей, паломнических значков, агнцев Божьих и т. д. В амулетах, наоборот, центр занимал «реликварий», в котором крошечные частицы мощей соседствовали с различными devotionalia. Он был завернут в несколько слоев бумаги с гравированными изображениями святых‑заступников, текстами молитв и защитными аббревиатурами. Цель статьи — проанализировать возможные функции и «модусы действенности» этих образов‑объектов; формы сочетания сакральных знаков‑индексов (мощей) и знаков‑икон (изображений); сходства и различия в их визуальной риторике; роль видимости и невидимости элементов. И «Запертые сады», и Breverl — это собрания сакральных объектов, которые встраиваются в четкий пространственный паттерн, где важную роль играет симметрия. При этом в «садах» знаки‑индексы и знаки‑иконы открыты взору и могут служить опорой для молитвенных практик и подразумевают тактильное соприкосновение. В амулетах и реликвии, и изображения, и тексты, наоборот, скрыты от взгляда и, как подразумевается, должны действовать автоматически, защищая того, кто носит этот свернутый мир с собой.
Идентификаторы и классификаторы
- Префикс DOI
- 10.22394/2073-7203-2024-42-3-27-59
Один из самых распространенных типов религиозных образов в Нидерландах XV–XVI вв. — триптих или полиптих, совмещавший круглую скульптуру, рельеф и живопись. В центре — деревянный короб с раскрашенными и позолоченными фигурами Христа, Богоматери и святых, а по бокам — створки, на которых, внутри и снаружи, написаны другие святые, сцены из их житий и часто фигуры донаторов.
Список литературы
1. Антонов Д. И. Советские иконы как исследовательский проект // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2022. № 9. С. 155-164.
2. Антонов Д. И., Доронин Д. Ю. Советские иконы. История и этнография Нижегородской традиции. М.: Индрик, 2023.
3. Баше Ж. Образ-объект // Vox Medii Aevi. 2021. № 1. С. 122-126.
4. Бозоки Э. Средства личной защиты в Средние века // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2021. Вып. 39. № 3. С. 130-162.
5. Мусин А. Е. Кораллы в христианской культуре Восточной Европы и Средиземноморья // Российский археологический ежегодник. 2014. №4. C. 371-378.
6. Asperen, H., van (2018) “The Book as Shrine, the Badge as Bookmark: Religious Badges and Pilgrims’ Souvenirs in Devotional Manuscripts”, in M. Faini, A. Meneghin (eds.). Domestic Devotions in the Early Modern World, pp. 228-312. Leiden: Brill.
7. Asperen, H., van (2021) Silver Saints. Prayers and Badges in Late Medieval Books. Turnhout: Brepols.
8. Azinovič Bebek, A., Filipec, K. (2013/2014) “Brevari iz Lobora i drigih novovjekovnih grobalja sjeverozapadne hrvatske (The Breverls from Lobor and other Early Modern Cemeteries in Northeastern Croatia)”, Opuscula Archaeologica 37/38: 281-300 .
9. Baert, B. (2018) “Art and Mysticism as Horticulture. Late Medieval Enclosed Gardens of the Low Countries in an Interdisciplinary Perspective”, in L. Nelstrop, H. Appleton (eds.). Art and Mysticism: Interfaces in the Medieval and Modern Periods, pp. 104-127. New York: Routledge.
10. Baert, B. (2024) “Heavenly Fragrance. Late Medieval Enclosed Gardens of the Low Countries and the Senses”, in J. Becker et al. (ed.). (Er-)Leben von Spiritualität. Die fünf Sinne in religiösen Gemeinschaften des Mittelalters (Klöster als Innovationslabore, 14), pp. 219-238. Heidelberg: Schnell & Steiner.
11. Baert, B., Iterbeke, H. (2016) “Revisiting the Enclosed Gardens of the Low Countries (Fifteenth Century Onwards). Gender, Textile, and the Intimate Space as Horticulture”, Textile. Cloth and Culture 15(1): 1-31.
12. Baert, B., Iterbeke, H., Watteeuw, L. (2018) “Late Medieval Enclosed Gardens of the Low Countries: Mixed Media, Remnant Art, Récyclage and Gender in the Low Countries (Sixteenth Century Onwards)”, in G. Jurkowlaniec, I. Matyjaszkiewicz, Z. Sarnecka (eds.) The Agency of Things in Medieval and Early Modern Art. Materials, Power and Manipulation, pp. 33-48. New York: Routledge.
13. Berthod, B., Hardouin-Fugier, É. (2006) Dictionnaire des objets de dévotion dans l’Europe catholique. Paris: Éd. de l’Amateur.
14. Bertrand, P. (2006) “Authentiques de reliques: authentiques ou reliques?”, Le Moyen Age CXII (2): 363-374.
15. Blanchot, J.-M. (2016) “Objets de dévotion et souvenirs du pèlerinage à Einsiedeln. L’exemple de la Franche-Comté et de des régions limitrophes au sein de la dorsale catholique”, Mémoires de la Société d’Émulation du Doubs, pp. 279-338.
16. Bozky, E. (2006) La politique des reliques de Constantin à Saint Louis. Paris: Beauchesne.
17. Carroll, M. P. (1996) Veiled Threats: The Logic of Popular Catholicism in Italy. Baltimore; London: The John Hopkins University Press.
18. Cayron, F., Steyaert, D. (2019) Made in Malines. Les statuettes malinoises ou poupées de Malines de 1500-1540. Étude matérielle et typologique. Turnhout: Brepols.
19. Chomelidse, N. (2021) “Liminal Phenomena: Framing Medieval Cult Images with Relics and Words”, Viator. Medieval and Renaissance Studies 52(2): 243-296.
20. DaCosta Kaufmann, Th., Roehrig Kaufmann, V. (1991) “The Sanctification of Nature: Observations on the Origins of Trompe l’oeil in Netherlandish Book Painting of the Fifteenth and Sixteenth Centuries”, The J. Paul Getty Museum Journal 19: 43-64.
21. Dauge-Roth, K. (2018) “Prêt-à-porter: Textual Amulets, Popular Belief and Defining Superstition in Sixteenth and Seventeenth-Century France”, Espacio, Tiempo y Forma: Historia del Arte 6: 137-168.
22. Descola, Ph. (2021) Les Formes du visible. Une anthropologie de la figuration. Paris: Seuil.
23. Ettlinger, E. (1965) “The Hildburgh Collection of Austrian and Bavarian Amulets in the Wellcome Historical Medical Museum”, Folklore 76(2): 104-117.
24. Foster-Campbell, M. H. (2011) “Pilgrimage through the Pages: Pilgrims’ Badges in Late Medieval Devotional Manuscripts”, in S. Blick, L. Gelfand (eds.). Push Me, Pull You. Imaginative, Emotional, Physical, and Spatial Interaction in Late Medieval and Renaissance Art, Vol. 1, pp. 227-274. Leiden; Boston: Brill.
25. Frugoni, Ch. (2017) Vivere nel Medioevo. Donne, uomini et sopra tutto bambini. Bologna: Mulino
26. Goody, J. (1993) The Culture of Flowers. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
27. Hahn, C. (2017) The Reliquary Effect. Enshrining the Sacred Object. London: Reaktion Books.
28. Heidinger, R. (2008) “Les Breverln en Alsace”, Annuaire de la Société d’Histoire du Sundgau, pp. 257-269.
29. Herrmann-Mascard, N. (1975) Les reliques des saints. Formation coutumière d’un droit. Paris: Klincksieck.
30. Jacobs, L. F. (1998) Early Netherlandish Carved Altarpieces, 1380-1550: Medieval Tastes and Mass Marketing. New York: Cambridge University Press.
31. Jacobs, L. F. (2012) Opening Doors: The Early Netherlandish Triptych Reinterpreted. Pennsylvania: Penn State Press.
32. Jacobs, L. F. (2018) Thresholds and boundaries: liminality in Netherlandish art (1385-1530). London; New York: Routledge.
33. Knez, D. (2008) “Breverl - zagovor ali blagoslov? / Breverl - Invocation or Blessing?”, Argo 51(2): 46-53.
34. Koering, J. (2021) Les iconophages. Une histoire de l’ingestion des images. Paris: Actes sud.
35. Koldewey, J. (1991) “Pilgrim Badges Painted in Manuscripts: A North Netherlandish Example”, in K. Horst, van der, J.-Chr. Klamt (eds.) Masters and Miniatures. Proceedings of the Congress on Medieval Manuscript Illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989), pp. 211-218. Doornspijk.
36. Lahti, S. (2019) Silver Arms and Silk Heads. Medieval Reliquaries in the Nordic Countries. Åbo: Åbo Akademi University Press.
37. Lamireau-Meyer, Сl. (2009) La poursuite du divin. Écritures votives des lieux de culte catholiques parisiens. Anthropologie sociale et ethnologie. Thèse pour obtenir le grade de docteur de l’École des hautes études en sciences sociales, pp. 354-355.
38. Lehnherr, Y. (éd.) (2004) Au-delà du visible: reliquaires et travaux de couvents. Musée d’art et d’histoire Fribourg, 31 octobre 2003 au 29 février 2004. Fribourg: Musée d’art et d’histoire.
39. Lewis, M. (2014) Saints and Their Badges. Saints’ Lives and Medieval Pilgrim Badges. Witham: Greenlight Publishing.
40. Marshall, L. (1994) “Manipulating the Sacred: Image and Plague in Renaissance Italy”, Renaissance Quarterly 47(3): 485-532.
41. Musacchio, J. M. (2005) “Lambs, Coral, Teeth, and the Intimate Intersection of Religion and Magic in Renaissance Italy”, in S. Montgomery, S. Cornelison (eds.) Images, Relics, and Devotional Practices in Medieval and Renaissance Italy, pp. 139-156. Tempe: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies.
42. Pearson, A. (2017) “Sensory Piety as Social Intervention in a Mechelen Besloten Hofje”, Journal of Historians of Netherlandish Art 9(2).
43. Pearson, A. (2019) Gardens of Love and the Limits of Morality in Early Netherlandish Art. Leiden; Boston: Brill.
44. Rasmussen, A. M. (2021) Medieval Badges. Their Wearers and Their Worlds. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
45. Ruchat, A. (1714) Les delices de la Suisse, une des principales républiques de l’Europe... Т. 4. Leyde.
46. Rudy, K. M. (2011) Virtual Pilgrimages in the Convent: Imagining Jerusalem in the Late Middle Ages, p. 112. Turnhout: Brepols.
47. Rudy, K. M. (2016) Piety in Pieces. How Medieval Readers Customized their Manuscripts. Cambridge: Open Book Publishers.
48. Rudy, K. M. (2019) Image, Knife, and Gluepot: Early Assemblage in Manuscript and Print. Cambridge: Open Book Publishers.
49. Sanchez, J.-M. (2009) Reliques et reliquaires. Jérusalem, Rome, Compostelle et la Provence, pp. 48-54. Gap: Éditions Grégoriennes.
50. Schmitt, J.-Cl. (1999) “Les reliques et les images”, in Les reliques. Objets, cultes, symboles: Actes du colloque international de l’Université du Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer), 4-6 septembre 1997, pp. 145-167. Turnhout: Brepols.
51. Skemer, D. (2006) Binding Words.Textual Amulets in the Middle Ages. University Park: Pennsylvania University Press.
52. Skemer, D. (2015) “Magic Writ: Textual Amulets Worn on the Body for Protection”, in Kehnel, A. et al. (eds.) Schriftträger - Textträger: Zur materialen Präsenz des Geschriebenen in frühen Gesellschaften, pp. 127-150. Berlin; München; Boston: Walter de Gruyter.
53. Skinnebach, L. K. (2019) “Haptic Prayer, Devitional Books and Practices of Perception”, in D. Carrillo-Rangel, et al. (eds.) Touching, Devotional Practices, and Visionary Experiences in the Late Middle Ages, pp. 95-122. London: Palgrave Macmillan.
54. Tycz, K. M. (2019) “Material Prayers and Maternity in Early Modern Italy: Signed, Sealed, Delivered”, in M. Corry, M. Faini, A. Meneghin (eds.) Domestic Devotions in Early Modern Italy, pp. 244-271. Leiden; Boston: Brill, 2019.
55. Watteeuw, L., Iterbeke, H. (eds.) (2018) Enclosed Gardens of Mechelen. Late Medieval Paradise Gardens Revealed. Amsterdam: Amsterdam University Press.
56. Wirth, J. (2008) L’image à l’époque gothique. Paris: Cerf.
57. Wirth, J. (2022) Art et image au Moyen Âge. Genève: Droz.
58. Zeller, M. (2022) “Nouvelles acquisitions patrimoniales”, La Revue de Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg Varia 26: 108-109.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Для цитирования: Щедрина О. М. Рецензия на: Осокина Е. Судьбы икон в Стране Советов. 1920–1930-е. М.: Новое литературное обозрение, 2023. 416 с. Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2024;42(3): 336-346. https://doi. org/10.22394/2073-7203-2024-42-3-336-346
Рецензия на: Бурмистров К. В поисках Зефиреи: Заметки о каббале и «тайных науках» в русской культуре первой трети XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2024. 392 с.: ил. (Серия “Studia religiosa”)
Для цитирования: Соколова Е. В. Рецензия на: Бурмистров К. В поисках Зефиреи: Заметки о каббале и «тайных науках» в русской культуре первой трети XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2024. 392 с.: ил. (Серия “Studia religiosa”)// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2024. No 42(3). С. 327–335. https://doi. org/10.22394/2073-7203-2024-42-3-327-335
В современной российской социологии религии слабая религиозность православных интерпретируется либо как «номинальная» принадлежность к православию, либо как нахождение на той или иной ступени на линейном пути к полному воцерковлению. Каждая из этих точек зрения страдает редукционизмом, чрезмерно упрощая богатую религиозную жизнь. В современном мире границы между основными оппозициями (сакральное — профанное, религиозное — светское), на которых строилась социология религии, перестают быть очевидными. Мы пытаемся обнаружить новые религиозные темы и установить, насколько значимый вклад в их развитие вносят как традиционное церковное благочестие, так и новые ценности современности (самореализация, экологичность, телесность…). Анализ проводится в рамках Q‑методологии: выделяется 8 прототипов религиозности на основании 30 Q‑сортировок набора из 136 карточек и глубинных интервью. Набор «Слабая религиозность» для Q‑сортировки разработан с опорой на идеи «Невидимой религии» Т. Лукмана и репрезентирует 8 сфер. Каждая сфера актуализируется через набор суждений, описывающих потенциальные опыты трансцендентного на разных уровнях или указывающих на важность этого опыта. Описания (всего 136) сформулированы в третьем лице. Выделено 8 прототипов: 1) «классическая» религиозность, 2) гражданская и политическая активность, 3) отношения с другими людьми, 4) духовность (спиритуальность), 5) телесность и здоровый образ жизни, 6) творчество и личная самореализация, 7) саморазвитие и общее благо, 8) работа. Мы показываем, что полученные прототипы могут интерпретироваться именно как религиозные, несводимые к какому‑либо нерелигиозному фактору.
Статья посвящена тому, каким образом религиозно ориентированные некоммерческие организации, как аффилированные с Русской православной церковью, так и те, связь которых с православием неочевидна, осуществляют патриотическое воспитание посредством военизированной активности и обучения боевым искусствам (или спорта). Авторы предлагают свой вариант ответа на вопрос, почему религиозно ориентированные группы проявляют усиливающийся интерес к военно‑патриотическому воспитанию и по какой причине это воспитание осуществляется в основном посредством спорта и боевых искусств. Предполагается, что патриотическая деятельность служит не только средством доступа к финансовой поддержке, но и способом легитимации существования групп, которые могут находиться в конфликте с церковной иерархией. Патриотическое воспитание также отражает стремление религиозно ориентированных организаций вернуться к ритуальным корням спорта и других телесных практик, представляя их как форму мирской аскезы. Статья основана на методе крупнопланового исследования бывшей Покровской обители (Пермь), центра «Спас» (Обнинск), всероссийского движения «Сорок Сороков» и других организаций.
Объектом исследования является декоративное и вотивное убранство русской иконы середины XIX — начала XXI в., а предметом — оклады, ризы, нимбы и венцы фолежных и подфолежных образ(к)ов. Новизна постановки вопроса видится соавторам в двух аспектах: (а) используется ясно очерченный одним регионом «Брянский кейс», до сих пор не попавший в поле зрения специалистов‑иконоведов; (б) внимание сосредоточено не столько на результате декорирования фольгой иконных досок, сколько на тонкостях процесса производства деталей, из которых собирается готовый киот, что позволяет различать местные приемы обращения с фольгой и грамотно атрибутировать сохранившиеся памятники народного ремесла. Основные методы исследования выдержаны в рамках материального, иконического, семиотического и «поворота к религии», а именно: включенное наблюдение, дескрипция, case study, комплексный религиоведческий анализ. Соавторы пришли к выводу, что можно уверенно говорить о непрекращающейся преемственности поколений мастеров на Брянщине, а фиксация разнообразной техники обработки фольги и подручных материалов способствует современной музееведческой каталогизации и искусствоведческой атрибуции фолежных и подфолежных икон.
В статье рассматриваются два объекта, которые распространились в Российской империи в первой половине XIX в. и, казалось бы, имели немного общего: рождественские елки и иконы‑киотки (религиозные образа в деревянных киотах, украшенные фольгой). Как показывает автор, с первых же десятилетий своего существования эти гибридные артефакты оказались связаны друг с другом по многим параметрам. Их объединяли используемые материалы — фольга, бумага, хромолитографические образки и др.; принципы украшения — прежде всего имитация драгоценных металлов, использование недорогих сверкающих декоративных элементов; промыслы и производственные практики, которые снабжали их этими элементами. Морфология и символика рождественской елки были тесно завязаны на христианском контексте и очевидно сближались в этом с иконой. Наконец, практики взаимодействия с этими объектами и эмоциональные регистры, связанные с ними, также имели много общего. Религиозный и около‑религиозный домашний объект на протяжении XIX в. развивались по близким траекториям. После революции, на волне антирелигиозных кампаний, большевики пытались истребить эти артефакты и обряды, в которых они были задействованы. Однако и икона, и рождественское дерево пережили гонения 1920‑х и 1930‑х гг. и адаптировались к новым культурным и материальным условиям. Морфология советской елки и советской иконы вновь оказалась родственной. В дальнейшем иконы стали заимствовать элементы сначала от дореволюционных, а затем и от советских елок, что еще больше сблизило эти бриколажные объекты. Наконец, в последние десятилетия советская елочная игрушка и советская икона переживают сходные сценарии, превращаясь в культурный, научный и музейный объект.
В статье описываются две религиозные обрядовые практики, распространенные в зоне католическо‑православного пограничья и сформировавшиеся под влиянием (пара)литургических практик как своеобразные их «реплики». Прежде всего, это использование сельской общиной креста, подобного выносному кресту, носимому во время крестных ходов и похоронных процессий. Обряд берет начало, скорее всего, в советское время, когда церковные похоронные процессии оказались под запретом, а затем и храмы закрылись. Такие кресты, изготовленные местными жителями, хранятся в домах у тех, кого почитают религиозным лидером, и принадлежат всему деревенскому сообществу. Когда в селе кто‑то умирает, этот крест берут в дом умершего и затем несут вместе с гробом на кладбище. Второй обряд, называемый Свеча, представляет собой почитание общесельской иконы или специальной свечи, приуроченное к какому‑либо церковному празднику. Святыню хранят в течение года, а затем переносят из дома в дом. Традиция сформировалась, по‑видимому, во время распространения установлений Брестской унии, на тех территориях, где они действовали. В советское время этот обряд, сохранивший свои основные особенности, отчасти заменял местным жителям храмовые богослужения. В обряде просматриваются отражения литургических и паралитургических практик, имеющих более широкое распространение: чина проскомидии, освящения хлеба, вина и елея, собирания и использования материальных свидетельств благочестия, прохождения под святыней. Сам момент перенесения Свечи из дома в дом напоминает крестный ход. В то же время в отношении к месту пребывания Свечи видится конструирование сакрального пространства, заменяющего недоступные храмы: пока Свеча находится в доме, этот дом открыт для любых посетителей в любое время. Туда может прийти даже не знакомый с хозяевами человек, помолиться, поставить свечку, оставить поминальную записку, попросить о помощи. И выносной крест, и переходящая икона или свеча рассматриваются как общая собственность, не принадлежащая никому конкретно, но представляющая собой несомненную святыню, с которой ассоциирует себя сельское сообщество. В настоящее время обряды перерождаются и приспосабливаются к новым условиям.
В статье прослеживается эволюция структуры красного угла в русской традиции с точки зрения тех вернакулярных функций, которые он выполнял в крестьянском доме XIX — начала XXI в., и того статуса, которым он наделялся. Материалом для работы, выполненной на пересечении этнолингвистического, этнографического и структурно‑семиотического подходов, послужили как этнографические данные XIX–XX вв. (публикации Тенишевского бюро, изображения крестьянского интерьера на картинах художников‑передвижников), так и результаты полевых исследований последних двух десятилетий в северо‑западных областях России. Для понимания истории формирования красного угла привлечены свидетельства иностранцев, побывавших в России в XVI — начале XVIII в. Прагматический анализ имеющихся данных позволяет рассматривать красный угол (в том виде, в каком он известен с XIX в.) как сложно структурированный топос крестьянского жилища, который помимо основной сакральной функции (место расположения православных святынь и молитвы) выполнял более широкие функции ментального и информационного центра, отражавшего интеллектуальные интересы и картину мира хозяина дома. В XX в., несмотря на атеистические гонения, красный угол сохранил и расширил статус информационного и коммуникативного центра, «отвечавшего» за связь не только с сакральным, но и с «земным» миром за счет расположения там радио, а позже и телевизора, а также всей ценной для хозяев информации (от Псалтыри и Библии до врачебных рецептов и тетрадей с заговорами).
В статье прослеживается эволюция структуры красного угла в русской традиции с точки зрения тех вернакулярных функций, которые он выполнял в крестьянском доме XIX — начала XXI в., и того статуса, которым он наделялся. Материалом для работы, выполненной на пересечении этнолингвистического, этнографического и структурно‑семиотического подходов, послужили как этнографические данные XIX–XX вв. (публикации Тенишевского бюро, изображения крестьянского интерьера на картинах художников‑передвижников), так и результаты полевых исследований последних двух десятилетий в северо‑западных областях России. Для понимания истории формирования красного угла привлечены свидетельства иностранцев, побывавших в России в XVI — начале XVIII в. Прагматический анализ имеющихся данных позволяет рассматривать красный угол (в том виде, в каком он известен с XIX в.) как сложно структурированный топос крестьянского жилища, который помимо основной сакральной функции (место расположения православных святынь и молитвы) выполнял более широкие функции ментального и информационного центра, отражавшего интеллектуальные интересы и картину мира хозяина дома. В XX в., несмотря на атеистические гонения, красный угол сохранил и расширил статус информационного и коммуникативного центра, «отвечавшего» за связь не только с сакральным, но и с «земным» миром за счет расположения там радио, а позже и телевизора, а также всей ценной для хозяев информации (от Псалтыри и Библии до врачебных рецептов и тетрадей с заговорами).
В статье прослеживается эволюция структуры красного угла в русской традиции с точки зрения тех вернакулярных функций, которые он выполнял в крестьянском доме XIX — начала XXI в., и того статуса, которым он наделялся. Материалом для работы, выполненной на пересечении этнолингвистического, этнографического и структурно‑семиотического подходов, послужили как этнографические данные XIX–XX вв. (публикации Тенишевского бюро, изображения крестьянского интерьера на картинах художников‑передвижников), так и результаты полевых исследований последних двух десятилетий в северо‑западных областях России. Для понимания истории формирования красного угла привлечены свидетельства иностранцев, побывавших в России в XVI — начале XVIII в. Прагматический анализ имеющихся данных позволяет рассматривать красный угол (в том виде, в каком он известен с XIX в.) как сложно структурированный топос крестьянского жилища, который помимо основной сакральной функции (место расположения православных святынь и молитвы) выполнял более широкие функции ментального и информационного центра, отражавшего интеллектуальные интересы и картину мира хозяина дома. В XX в., несмотря на атеистические гонения, красный угол сохранил и расширил статус информационного и коммуникативного центра, «отвечавшего» за связь не только с сакральным, но и с «земным» миром за счет расположения там радио, а позже и телевизора, а также всей ценной для хозяев информации (от Псалтыри и Библии до врачебных рецептов и тетрадей с заговорами).
В статье прослеживается эволюция структуры красного угла в русской традиции с точки зрения тех вернакулярных функций, которые он выполнял в крестьянском доме XIX — начала XXI в., и того статуса, которым он наделялся. Материалом для работы, выполненной на пересечении этнолингвистического, этнографического и структурно‑семиотического подходов, послужили как этнографические данные XIX–XX вв. (публикации Тенишевского бюро, изображения крестьянского интерьера на картинах художников‑передвижников), так и результаты полевых исследований последних двух десятилетий в северо‑западных областях России. Для понимания истории формирования красного угла привлечены свидетельства иностранцев, побывавших в России в XVI — начале XVIII в. Прагматический анализ имеющихся данных позволяет рассматривать красный угол (в том виде, в каком он известен с XIX в.) как сложно структурированный топос крестьянского жилища, который помимо основной сакральной функции (место расположения православных святынь и молитвы) выполнял более широкие функции ментального и информационного центра, отражавшего интеллектуальные интересы и картину мира хозяина дома. В XX в., несмотря на атеистические гонения, красный угол сохранил и расширил статус информационного и коммуникативного центра, «отвечавшего» за связь не только с сакральным, но и с «земным» миром за счет расположения там радио, а позже и телевизора, а также всей ценной для хозяев информации (от Псалтыри и Библии до врачебных рецептов и тетрадей с заговорами).
В статье рассматриваются практики почитания икон среди старообрядцев в условиях антирелигиозной политики СССР и их трансформации после окончания религиозных преследований. Основными источниками являются результаты этнографических наблюдений и воспоминания, записанные с 2008 по 2023 год среди старообрядцев Северо‑Западного Причерноморья и переселенцев из этого региона в Россию. В статье уделяется внимание роли икон в осмыслении религиозного опыта, трансляции представлений о своей вере, регламентации взаимодействия с иконой в разных контекстах. В условиях антирелигиозных кампаний почитание икон переносится в безопасное и скрытое от внешнего окружения пространство, а наиболее значимым для верующего, судя по материалам интервью, становится проживание религиозного опыта и знание о присутствии сакрального в домашнем пространстве. После окончания религиозных преследований формулируются новые правила, позволяющие более свободное расположение икон в доме, что уже не воспринимается как нарушение традиционных предписаний. Среди актуальных правил, регламентирующих организацию пространства около икон, встречаются запреты помещать кровать под божницей, размещать рядом с ней зеркало, класть на божницу мобильные телефоны, размещать в переднем углу / под иконой / напротив иконы телевизор и др. Важной функцией домашних икон является сохранение памяти о прошлом. За выбором наиболее почитаемых образов стоят значимые для семейной истории события, нередко связанные с преодолением трудного прошлого, что особенно ярко проявляется в традиции «служить праздник» / «брать праздник в дом», то есть устанавливать обетный праздник, который далее передается из поколения в поколение.
Статья посвящена семиотическим идеологиям, которые определяют способы означивания старых вещей и практики взаимодействия с ними на постсоветском пространстве. Советские иконы — самые распространенные религиозные артефакты коммунистической эпохи — после распада СССР также перешли в разряд «старых вещей». Их функции, локусы бытования и символический статус изменились, когда советское государство перестало существовать. На оценки и практики обращения с иконами советских лет влияют пять семиотических идеологий, которые выделяют авторы и которые в целом характерны для современного российского общества: историческая, антикварная, семейная, модернизирующая и идеология «опасной вещи». Многоплановый пейзаж из пяти способов означивания в случае с советскими иконами обретает еще одно измерение, когда дополняется представлениями о благодати, характерными для религиозного поля. Каждая из упомянутых установок сложилась в своей социокультурной среде и под влиянием различных исторических процессов. В современном социуме они находятся в постоянном взаимодействии, иногда вступая в конфронтацию: соперничают в сознании одного модератора (владельца икон, мастера‑образовника, священника и др.), «просвечивают» сквозь друг друга, изменяются в зависимости от коммуникативной ситуации. То, какая из них возьмет верх над другими, в конечном счете определит, выберет ли модератор практику сохранения советских икон или будет утилизировать их. В заключительной части статьи рассмотрено влияние, которое могут оказывать исследователи (историки, антропологи) на модераторов, общаясь с ними в рамках экспедиций и вольно или невольно провоцируя их на изменение или ситуативное переключение семиотических идеологий.
Статья посвящена материальным аспектам истории промысла расхожей иконы и советской фолежной иконы в частности. При анализе трансформаций различных исторических форм промысла массовых икон автор использует понятие аффорданс, то есть возможность окружающей среды, свойство предмета или объекта окружающей среды, которое позволяет использовать этот объект определенным образом. Аффорданс иконного промысла — это какой‑либо (социальный или природный) ресурс, становящийся ключевой возможностью для его рождения, развития его технологической и рыночной инфраструктуры или последующих важных трансформаций. Такими ресурсами‑возможностями могли быть не только изобретения ключевых технологий и материалов, но и важные социально‑политические события — например колонизация и поздняя христианизация края, сеть дорог в нем или особенности природопользования. Массовая ремесленная икона каждого из исторических этапов промысла формируется своими аффордансами: природными, промысловыми, промышленными, конфессиональными, этническими и др. Через рассмотрение аффордансов можно понять специфику истории, социально‑технологического развития явления советской иконы. Автор статьи ограничивает свой анализ несколькими важными сюжетами на примере промысла во владимирско‑нижегородском регионе: (a) природными аффордансами начала промысла, (b) аффордансами периода его интенсивного распространения во время русской колонизации новых земель (инфраструктурные, этноконфессиональные аффордансы) и (c) некоторыми материально‑технологическими аффордансами позднего этапа развития промысла, включая советскую эпоху. Из предшествующих форм иконного промысла мастерами советской иконы были заимствованы наиболее простые технологии и дешевые расходные материалы, которые были частично переизобретены. Дешевизна, простота, массовость были значимы и в промысле советской иконы. В этом плане она — одна из форм иконы расхожей. Помимо того, советская икона создавалась и в совсем других, уникальных и экстраординарных условиях: прагматика ее промысла не была связана с извлечением выгоды из массовости, «конвейерности» или быстроты производства, она заключалась в восполнении дефицита ритуальных артефактов.
В статье рассматриваются особенности создания и бытования икон в Средние века и Новое время. Автор показывает, что почитаемые моленные образа, как храмовые, так и домашние, чаще всего функционировали не самостоятельно, но как часть сложноорганизованного комплекса, состоявшего из риз, окладов, привесов, прикладов, тканей, киотов и других элементов. Иконы — и при создании, и в ходе своей «жизни» — выстраивались как комплексные (симбиотические, а позднее гибридные) объекты, все части которых воспринимали как «расширенное тело» святыни. Изменения пришли в начале XX в., когда в результате научной реставрации многие древние иконы были дезинтегрированы, расчищены и представлены на выставках. Вскоре после этого конфискация церковных ценностей, организованная большевиками, привела к разрушению практически всех комплексных икон по стране. Музеефикация расчищенных икон, их изучение и описание, тиражирование в печатных изданиях перенастроили оптику как специалистов, так и массового зрителя. Иконы стали понимать, воспринимать и описывать как «чистые изображения», произведения живописного искусства. Эта оптика стала общей для советских горожан, посещавших музей и видевших издания по русской иконописи, а также для иностранцев, знакомых с явлением в первую очередь благодаря альбомам и книгам. Однако, как показывает автор статьи, у этой «музейной» логики были четкие социальные границы. У жителей советской провинции восприятие икон не изменилось: мастера‑образовники, работавшие в селах, изготовляли советские иконы как комплексные объекты, называли изображение картинкой и считали лишь одним из элементов иконы. Их творения оказались прямыми наследниками комплексных икон Средневековья — Нового времени. И создатели, и владельцы советских икон разделяли ту же оптику и ту же логику взаимодействия с моленными образами, которые веками доминировали в христианской культуре.
Советские иконы — явление, открытое и концептуализированное в последние годы. Это самые массовые религиозные артефакты, кустарно создававшиеся в эпоху СССР. Они представляют собой комплексные симбиотические объекты: моленные образки, помещенные в деревянный киот, украшенные ризами и сложным декором. Советские иконы — наследники икон‑«киоток», которые массово распространились в Российской империи во второй половине XIX — начале XX в. Артефакты такого типа представляют собой «информационный контейнер» — в принципах их изготовления, функционирования, восприятия скрывается важнейшая информация о культурных стратегиях, религиозных практиках, социальных взаимодействиях и материальных реалиях эпохи. Создание и распространение советских икон требовало выстраивания множества теневых социальных сетей, а инструменты и материалы, которые использовали мастера, ярко отражали реалии советской провинции. До недавнего времени эти объекты не привлекали внимания специалистов. В современной России они быстро исчезают — из‑за доминирующего отношения к ним как к «устаревшим» предметам и «церковному мусору» их массово утилизируют. Комплексное изучение этих икон и социальных контекстов, в которых они существовали и продолжают существовать, — актуальная научная задача. Это не только выявляет религиозную и социальную специфику жизни советской провинции, но и помогает увидеть многие процессы, происходящие в современном городском и сельском обществе, определить и исследовать важные тенденции развития религиозной жизни как в храмовых и монастырских сообществах, так и в гораздо более широких социальных кругах — среди паломников, прихожан и людей, окказионально посещающих храмы. В статье описана история открытия советских икон, обоснована их материальная и социокультурная уникальность, а также рассмотрены постсоветские сценарии, в которые оказываются вовлечены эти артефакты.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- РАНХиГС
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1
- Юр. адрес
- 119571, город Москва, пр-кт Вернадского, д. 82 стр. 1
- ФИО
- Комиссаров Алексей Геннадиевич (РЕКТОР)
- Контактный телефон
- +7 (499) 9569832