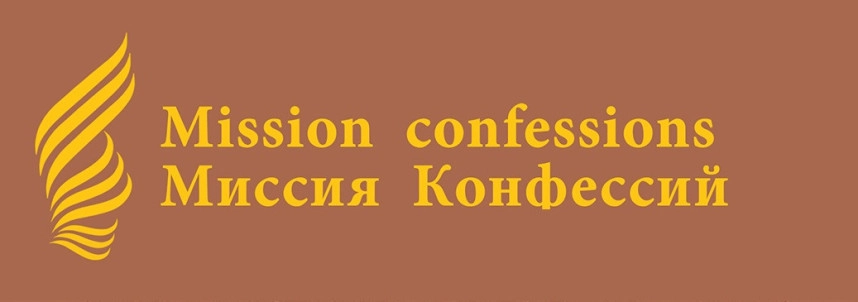Архив статей журнала
Предметом исследования в данной статье является философская рецепция кантианской идеи автономной воли в этической теологии одного из наиболее значимых представителей духовно-академической философии митрополита Антония (Храповицкого). Целью является анализ специфики интеграции идеи автономной воли И. Канта в философские построения митр. Антония (Храповицкого). Цель предполагает решение следующих задач: определение места и значения понятия свободной воли и идеи автономии воли в русской духовно-академической традиции; анализ учения о воле А. Храповицкого; определение характерных особенностей восприятия идеи автономной воли А. Храповицким. Автор обращает внимание на одну из самых значимых этико-теологических проблем духовно-академической философии: свободу воли и ее восприятие в идейный контекст православного теизма. Методология исследования, с учетом особенностей духовно-академической философии, объединяющей философский дискурс и религиозные постулаты, предполагает использование двух подходов: логико-концептуального и историко-критического. Поскольку исследуемая концепция изложена фрагментарно в нескольких трудах, используется метод историко-философской реконструкции. Новизна статьи заключается в обосновании наличия системного влияния практической философии И. Канта на этико-теологические построения А. Храповицкого, которое выразилось в заимствовании метода практической философии в качестве основного принципа осмысления религиозных постулатов. Духовно-академическая среда не отличалась единообразием осмысления этической мотивации, так что противостояние автономии или гетерономии в определении оснований нравственного деяния получали различную оценку. Митр. Антоний (Храповицкий) уже в своей диссертации становится на позицию защиту автономии чистой воли, однако, ее обоснование осуществляет в рамках идейной платформы православного теистического монизма. Особенность подхода А. Храповицкого заключается в том, что акцентирование значимости этического содержания деяния, введение метафизического концепта общечеловеческой воли и осмысление воли в кантианском ключе (как способности следовать принятым в основание максимам) позволили мыслителю представить автономию чистой воли как теономию.
Влияние философских идей не обязательно предполагает их принятие или хотя бы адекватное понимание. Идеи могут вызывать полемику, становиться общим местом, вызывать идиосинкразию, а могут, сойдясь на время с родственными им мыслями, вызывать эффект короткого замыкания, «искра» которого потом долго распространяется в пространстве культуры. Точкой же соприкосновения может оказаться не только проговоренное, но и подразумеваемое. Наконец, два строя мысли могут просто совпасть в их главных силовых линиях. Канту не повезло на русской почве. Освоение его философии у нас не породило «русского Канта» прежде всего из-за неприятия Кантом метафизики как знания, что русскими ассоциировалось с «дьявольщиной». Кантианство, однако, вряд ли является чисто интеллектуальным упражнением. Будучи, скорее всего, философским выражением образа жизни, кантианство легко проецируется на образ жизни же со всеми отличающими его неврозами. По этой причине эффект «короткого замыкания» с кантианскими идеями на русской почве легче встретить в художественной литературе, чем в философии. И Булгакова, и Канта равно волновала тема границы. У Канта - это граница между опытным и метафизическим, у Булгакова - граница между СССР и Западом. Оба понимали заграничье одинаково: опыт возвышенного, превосходящего человека и переворачивающего его представления. Оба испытывали сильное искушение перейти границу. Оба свои искушения выразили в книгах - очень разных по жанру и языку, и очень похожих исходным посылом. От искушения перехода границы [c метафизическим] Кант предохранял себя сам - при помощи защитного кокона своей критической философии. Для Булгакова роль кантовских «критик» выполняла Советская власть. Оба к концу жизни остались по свою сторону границы. И если Кант мог бы удовлетвориться исполненным долгом, то для Булгакова верность дому обернулась личной трагедией.