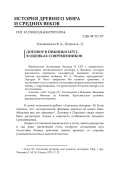С момента обретения независимости в 1991 г. перед Арменией стоит непростая задача создания профессиональной дипломатической службы, что связано с необходимостью укрепления государственности и с потребностью ориентироваться на геополитической арене. В настоящем исследовании рассматривается эволюция внешнеполитического ведомства Армении с особым вниманием к таким важнейшим вехам, как принятие Закона о дипломатической службе в 2001 г. и создание Дипломатической школы Армении в 2009 году. С помощью анализа количественных данных и применения качественных методов, включая изучение первоисточников и интервью с бывшими дипломатами и учеными, предпринимается попытка ответить на вопрос о том, какова роль институтов, политических лидеров и внешних факторов в формировании дипломатической службы страны. Анализ показал, что особый вклад в ее первоначальное становление внесли бюрократические структуры советского периода, армянская диаспора и выпускники специализированных академических программ. В дальнейшем сменявшие друг друга правительства стремились к большей профессионализации службы посредством институциональных реформ. Тем не менее, Министерство иностранных дел зачастую сталкивалось с такими проблемами, как централизация и политизация процесса принятия решений. Последние события, произошедшие при «революционном» правительстве Никола Пашиняна, свидетельствуют об эрозии институциональных практик, включая ослабление роли Дипломатической школы и превалирование критерия политической лояльности над принципом меритократии при распределении должностей. В настоящем исследовании анализируются взаимосвязи между институциональным развитием, бюрократической политикой и суверенитетом в дипломатии Армении. Таким образом, работа вносит вклад в понимание процессов государственного строительства в постсоветских государствах. В статье делается вывод о том, что, хотя Армения добилась значительного прогресса в институционализации дипломатической службы, для сохранения этих достижений необходимо нивелировать актуальные тенденции, которые подрывают ее эффективность.
В данной статье анализируется роль массовых протестов, произошедших в Украине в конце 2013 — начале 2014 годов, и трансформация политической системы и элит страны. Начавшись как движение, направленное на поддержку евроинтеграции, Евромайдан стал мощным социальным явлением, которое привело к значительным изменениям в политическом ландшафте Украины. Массовые протесты, вызванные отказом правительства от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, привели к глубоким изменениям в государственном управлении и общественно-политической системе страны. В статье рассматриваются ключевые события, предшествовавшие протестам, их развитие и последствия для украинского общества и государства. В статье также поднимаются вопросы о том, какие изменения произошли в структуре политических элит, и как новые лидеры справляются с наследием коррупции и социального неравенства. Несмотря на первоначальные идеалы, многие эксперты отмечают, что последующие годы не принесли ожидаемых изменений в структуру власти и отношениях между обществом и элитами. Кроме того, анализируются долгосрочные последствия Евромайдана для внешней политики Украины, включая углубление отношений с Западом и противостояние с Россией. Евромайдан не только изменил политическую элиту Украины, но и отобразил сложные процессы адаптации и трансформации политической системы, которые продолжают оказывать влияние на страну. Статья определяет важность гражданского общества в процессе изменений и рассматривает вызовы, стоящие перед Украиной на пути к демократизации и устойчивому развитию.
В статье характеризуется дискурс о внешнеполитической идентичности Беларуси в ходе президентских избирательных кампаний: как политические элиты воспринимают Россию и Европу, как идентифицируют себя в соотношении с внешнеполитическими силами.
Эмпирический материал представляют выступления, заявления, интервью ключевых политических авторов Беларуси.
Анализ проводится автором в соответствии с электоральными циклами, а именно выборами президента Беларуси, по 2 критериям: внешнеполитической ориентации на «своих» и противостоянии угрозам со стороны «других».
Методологическая новизна статьи заключается в ракурсе восприятия внешнеполитической идентичности, которая рассматривается автором сквозь призму дискурса альтернативных стратегий: преимущественной идентификации Республики с Россией или Европой, а также дискурс о восприятии Беларуси как отдельной цивилизации.
В статье выделяются этапы трансформации внешнеполитической идентичности Беларуси. Автор обосновывает смещение внешнеполитической идентичности Беларуси в сторону союза с Россией.
В статье показано, что актуализация европейского вектора идентичности во второй половине 2000-х гг. приводит к корректировке внешнеполитического позиционирования с акцентом на суверенность и независимость, угрозы которой видятся как с запада, так и с востока.
Сложившаяся система баланса Беларуси между Западом и Россией закрепилась через посредничество Минска в урегулировании украинского кризиса в 2014 г. В 2020-е гг. происходит слом системы внешнеполитического баланса Беларуси, которая «примыкает» к России, что признается политическими (оппозиционными) акторами и одновременно считывается ими как угроза. Руководство Беларуси, используя риторику враждебности Западу, стремится опереться на поддержку России, при этом сохраняя от нее некую автономность.
К середине 2020-х гг. доминирующей становится стратегия восприятия Беларуси как отдельной цивилизации, при сохранении стратегического союза с Россией. Ключевым официальным нарративом президентской избирательной кампании 2025 г. становится риторика сохранения мира для Беларуси.
Россия является крупнейшим мировым производителем и поставщиком энергетических ресурсов в мире. Ее роль на рынке энергетических ресурсов зависит не только от географического положения, экономической составляющей и общемировых тенденций.
В данной статье приводится обстоятельный разбор проблематики российского присутствия на мировом рынке энергетических ресурсов, анализируются глобальные процессы, которые повлекли за собой значительные структурные изменения в определении баланса интересов стран - участников энергетического взаимодействия.
С момента основания Турецкой Республики в 1923 году и до прихода партии Реджепа Тайипа Эрдогана к власти в стране Анкара придерживалась принципов «шести стрел» кемализма, а именно: избираемость верховной власти, сохранение политического национализма, народность, светский характер власти, построение и в дальнейшем сохранение системы смешанной экономики и борьба с пережитками старого общества. Кемализм сосредоточился на более узких интересах национального государства, отказавшись от заботы о «внешних турках», тюркских народах, проживающих за пределами Турции, а в своем политическом развитии ориентировался на Запад. Формирование однополярной системы международных отношений, новые вызовы и проблемы в экономической, политической, социальной и энергетической сферах во многом привели к тому, что политическая элита выступила с идеей переориентации курса страны. Пришедший к власти в составе команды Эрдогана на пост премьер-министра в 2015 году Ахмет Давутоглу пытался притворить в жизнь концепцию взвешенной внешней политики, согласно концепции, разработанной им и изложенной в монографии «Стратегическая глубина». Но уже в 2016 году после попытки военного переворота в Турции и череды пограничных конфликтов его концепция окончательно утратила свою актуальность, уступив место новым идеям Эрдогана. В 2019 году их дополнила новая доктрина «Голубая родина», разработанная бывшим начальником Штаба военно-морских сил, контр-адмиралом Джихадом Яйджи совместно с адмиралом Джемом Гурденизом. В данной статье мы рассмотрим формирование нового внешнеполитического курса Турции, причины появления концепции «стратегической глубины» в период XXI века, а также отказа от нее.
Цель: изучить причины отказа политического руководства Турции от проведения политики «стратегической глубины». Научная новизна состоит в том, что в комплексе рассмотрены различные подходы турецкого руководства к реализации внешнеполитического курса Турции. В ходе проведения исследования был использован системный анализ и исторический метод.
В статье рассматривается и анализируется образ Соединенных Штатов Америки, который был создан российскими дореволюционными журналистами на страницах периодического издания «Летопись войны 1914-1917 гг.» в первые годы Первой мировой войны (1914-1915 гг.). При написании этой работы использовались как общенаучные, так и специально-исторические методы исследования. Среди общенаучных методов необходимо отметить сравнение, обобщение, анализ и синтез. К числу специальных методов следует отнести историко-генетический метод, позволяющий проанализировать основные процессы и тенденции развития Соединенных Штатов Америки в начале прошлого столетия, а также историко-сравнительный метод, который дает возможность сопоставить и сравнить материалы различных авторов «Летописи…» о США, определить и охарактеризовать их взгляды на образ этого государства, выделить ряд закономерностей в данном процессе. По итогам исследования делается вывод о том, что на страницах «Летописи войны 1914-1917 гг.» Соединенные Штаты Америки в 1914-1915 гг. предстают государством, которое во главу угла ставит свои собственные национальные интересы, а поэтому осознано не стремится стать участником глобального военного столкновения мировых держав. Однако при этом корреспонденты «Летописи…» выражают надежду на то, что США учтут настроения своего народа и в ближайшее время превратятся из государства, соблюдающего нейтралитет в союзника России в Первой мировой войне.
Французская экспедиция Эдуарда IV 1475 г. завершилась подписанием неоднозначного договора в Пикиньи, который фактически определил дальнейшую внешнюю политику Англии последней четверти XV в. “Великое предприятие” Эдуарда IV было завершено без единого сражения, и заключение столь спорного соглашения вызвало неоднозначную оценку у современников, что представляет большой интерес для исследования.
Показывается, что в условиях современного миропорядка, характеризующегося взаимозависимостью всех международно-политических игроков, национальный внешнеполитический курс становится одним из ключевых факторов, определяющих положение страны на международной арене. Исследуется понимание того, что внешняя политика государства исходит из самоощущения места в иерархии системы международных отношений и укрепления или возвышения государственного влияния. Выявлена связь между пониманием позиции актора в мировой политической системе, реализацией национальных интересов и сохранением безопасной внешнеполитической среды, т. е. обеспечением национальной безопасности. Рассмотрена идея национальной сверхзадачи в качестве основы для формирования и реализации внешнеполитических стратегий современных государственных акторов. Выявляется, что любое государство обладает субъектностью в мировой политике и заинтересовано в продвижении своей властной риторики, а также в оптимальной реализации национальных интересов. Обосновывается, что державы, будь то великие, региональные или малые, выбирают определенную модель внешнеполитического поведения и миссию своей внешнеполитической позиции, что выражается в национальной сверхзадаче. Рассмотрены особенности национальной сверхзадачи во внешней политике Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики и Российской Федерации как наиболее ярких представителей государств разной этической и ценностной систем, обусловливающих миссию государства на международной арене.
В статье рассматриваются вопросы многопартийности и внешней политики России. Автор отмечает, что отечественная высшая власть пришла к принципу построения цивилизационной внешнеполитической концепции. Констатируется, что внешнеполитическая деятельность непосредственно увязана с деятельностью партий и других институтов общественной жизни, которые создают фундаментальные основания для формирования качественно новой внешней политики государства и определяют фиксированное положение страны в мире. Выделен ряд факторов, обусловливающих актуальность темы строительства многоцивилизационного мира. Автор отмечает, что в основу партийного строительства должна быть положена цивилизационная миссия России. Преобразования должны предусматривать переориентацию направления реализации предпочтений в партийном развитии в соответствии с задачами национальной экономики и цивилизационных изменений. Отмечается, что Либерально-демократическая партия России давно и плодотворно занимается проблематикой цивилизационного строительства как главного тренда общественного строительства нашего государства. Отражены основные положения миссии России как государства-цивилизации.
На мировой арене сегодня происходят кардинальные изменения, идейно-ценностные трансформации мирового порядка, что обусловливает и выстраивание внешнеполитического курса России с большей опорой на ее национальные интересы, их более четкую артикуляцию, формирование более последовательной, твердой, независимой и самостоятельной российской внешней политики в жесточайших условиях противостояния коллективному Западу. Одним из факторов, который способен обеспечить ее проведение, является потенциал российской нации, «твёрдая опора» внутри страны в лице ее населения. Изучение мнений представителей современной молодежи о векторах внешней политики РФ является чрезвычайно актуальным, но недостаточно изученным направлением. Основная цель - исследование внешнеполитических ориентаций молодежи в современных условиях. На основе данных авторских исследований 2023-2024 гг. и результатов опросов ВЦИОМ проводится анализ отношения молодежи российских регионов к российскому внешнеполитическому курсу, рассматривается роль России в обеспечении справедливого и безопасного миропорядка. По результатам анализа было выявлено, что современная молодежь интересуется происходящими в мире событиями, часть ее знакома с основными концептуальными документами в отношении внешней политики РФ. По мнению молодежи, мир и безопасность страны являются основным внешнеполитическим приоритетом; они определяют проводимую внешнюю политику нашей страны как самостоятельную и независимую, а Россию рассматривают как гаранта мира и безопасности в мире.
Рассматриваются основные этапы культурной дипломатии Австралии в отношении Японии на протяжении пятидесяти лет (начиная с 1974 г.). Отмечается, что взаимовыгодное партнерство в культурной области позитивно воздействовало на всю систему двусторонних межгосударственных отношений.
Статья посвящена трансформации политики Европейского союза на Южном Кавказе после карабахской войны 2020 г. Военная победа Азербайджана, одержанная при турецкой поддержке, привела к тому, что линия общей внешней политики и политики безопасности в регионе (основанная на участии в Минской группе ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту, поддержке Грузии в российско-грузинском конфликте, программе «Восточного партнерства» для всех стран Южного Кавказа) оказалась малоэффективной. Не удалось выстроить модель сближения между странами Южного Кавказа, вытеснить из региона Российскую Федерацию, стать реальным посредником в конфликтных зонах. Даже процесс демократизации политических режимов в полной мере не получился ни в одной из стран региона, несмотря на однозначно проевропейскую позицию Грузии и «бархатную» революцию в Армении. Армяно-азербайджанская война 2020 г. привела к появлению российских и турецких войск на Южном Кавказе, миротворческому процессу, основанному на активном посредничестве России, Турции и Ирана. Попытки ЕС усилить роль Минской группы ОБСЕ и механизмов «Восточного партнерства» пока не дают никаких результатов, кроме дипломатических. Принципиальными проблемами для всего комплекса европейской политики с 2020 г. являются формирование общей политики в отношении всех этноконфессиональных конфликтов на постсоветском пространстве, конкуренция и партнерство в этих вопросах с Россией, усиление активности и самостоятельности в данных вопросах Турции. Таким образом, Европейскому союзу предстоит выработать новую модель влияния на Южном Кавказе и постсоветском пространстве в целом. В условиях складывающегося глобального противостояния очень важны те международные факторы, которые способны и готовы взаимодействовать со всеми сторонами. Европейский союз представляется именно таким фактором, что требует активного изучения его действий в решении региональных конфликтов.